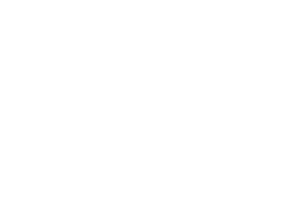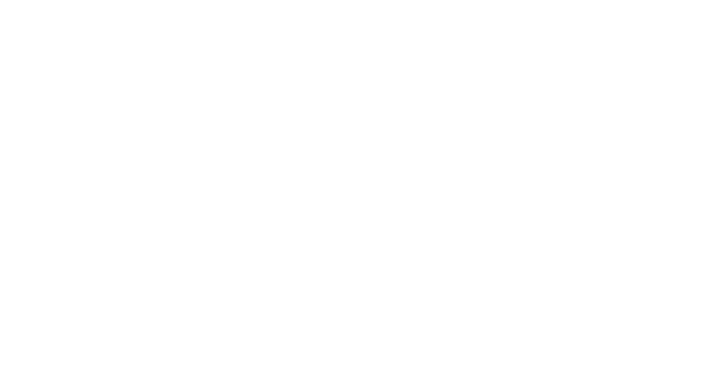
Я помню те грустные дни...
Автор: Е. М. Кораблева-Гурджи
«Сухумский вестник». 1990, июль, № 6
«Сухумский вестник». 1990, июль, № 6
Ниже публикуются воспоминания уроженки нашего города, а ныне москвички Екатерины Кораблевой (в девичестве Гурджи), которые были написаны под впечатлением от прочтения статьи видного абхазского историка С.З. Лакоба «Я – Коба, а ты – Лакоба», напечатанной в октябре 1989 года в «Ленинградском рабочем». Содержались эти воспоминания в письме профессору И.П. Лейберову (Ленинград), который любезно предоставил их «Сухумскому Вестнику».
…Как сейчас перед глазами картина: в Келасури привезли умершего Н. Лакобу. Я была среди тех, кто толпой, растянувшейся на все 9 км, шли встретить поезд, на котором привезли его. Подошел поезд, на открытой платформе гроб и тысячи людей вокруг.
Народ любил Лакобу. Любила его и я. И не так просто, потому что все любили, а потому, что все знали его, даже я знала его, часто видела и слушала его. А когда я повязывала ему красный галстук почетного пионера (это было в здании драмтеатра на каком-то праздничном заседании), я увидела его глаза близко-близко, и теплота их ласкала так хорошо и передалась мне, что я запомнила это на годы.
Читаю, что похороны были зимой, но я хорошо помню, что день похорон был солнечным, народу было мною, и весь путь от драмтеатра, где он лежал, до Ботанического сада сплошь был устлан цветами... Перезахоронение было на другом кладбище... Хорошо запомнилось и то, что тело Лакобы было затем надежно спрятано родственниками и что его не могут найти.
Конечно, Л. Берия не могло не волновать, что факт отравления может всплыть. О том, что он был отравлен, мы знали, т. к. не захотевший подписать предложенное заключение врач Семерджиев был сразу арестован, а его дочь переведена из Абхазской школы в мою и в мой класс. Проучилась Ляля Семерджиева несколько дней и вдруг исчезла; говорили, что родственники увезли ее куда-то... Много лет спустя мне передавали, что она работает в Сухуме.
Когда шел суд (открытый, в здании театра), его транслировали по радио. Растерянная и потрясенная, до нитки промокшая, стояла я у большого репродуктора и плакала. Почему я плакала? В моем еще детском сердце никак не вмещалось понятие «враг народа» в отношении Нестора Аполлоновича. Я же помню его глаза, они не могли обмануть меня. Вместе с его братьями судили и Вл. Ладарию, которого я тоже хорошо знала. Он, как и Л. Берия, кончал мою школу.
Народ знал, что Берия встал между Лакобой и Сталиным, ибо было известно о дружбе этих двух людей. Тогда, вероятно, никто из народа не знал цену этой дружбы. О Сталине, конечно, я тогда ничего плохого не слышала. Но думали, что Берия ревновал Лакобу к Сталину.
Родилась я в 1922 году, жила на улице Лакоба. Тогда его именем называлась наша улица, и только, видимо, после реабилитации его именем назвали улицу, на которой он жил.
Приезды И.В. Сталина тоже в народе были известны. Знали даже и о той провокации с обстрелом катера. Никто не верил, что на Сталина покушались. Если кто и поверил, то это сам Сталин.
Знали и то место, где жил Сталин в Сухуме, и дом тот так и стали называть –домом Сталина. Сейчас я не могу точно вспомнить, откуда у меня были все эти сведения. Возможно, информация шла от Анисима Спиридоновича Гулия, старого большевика, бывшего подпольщика, сын которого Владимир был начальником особого отдела, тогда же репрессирован и осужден.
Дружба моих родителей с Гулия продолжалась и потом, после ареста их сына. Помню, кто-то спрашивал отца, не боится ли он общаться с ними, а он отвечал, что ему терять нечего. Действительно, от стариков Гулия отвернулись все, и только к нам они время от времени приходили. И я помню, мама обязательно что-то особенное в этот день. готовила: чебуреки, пельмени или пекла кубэтэ.
Я и сестренка иногда ходили к ним (жили они в Ботаническом саду в отдельном домике, который после их смерти был снесен) и убирали у стариков их двухкомнатную квартиру. Жили старики надеждой, что их сын жив. Эту надежду подавала бумага, присылаемая не раз на неоднократный их запрос за подписью Ворошилова. Старик скоро умер, а мать долго еще жила, работая в билетной кассе у входа в Ботанический сад.
В последний свой приезд вместе с подругой гречанкой в поисках могилы ее родственницы на Михайловском кладбище я вдруг увидела могилу этих стариков Гулия. Положила цветы, и, конечно, навещала бы ее, но больше в Сухуме быть мне не пришлось.
Я отвлеклась. Народ любил не только Нестора, все любили и его жену. Теперь, узнав все подробности, я понимаю, что любили ее не зря.
Их сын Раф (так все его называли) был того же возраста, что и я. Когда его арестовали, их класс (русское отделение Абхазской школы) был расформирован. Тогда-то и попала к нам Ляля Семерджиева. Не знаю как, но было известно о том, что Берия добивается каких-то бумаг, порочащих Нестора. Знали мы, что жена Нестора хорошо их спрятала. Знали и о допросах сына при матери, даже физическом воздействии на сына и мать. Но бумаги не были найдены. Сейчас я узнала, куда их спрятала жена Лакобы.
Да, видимо, все это мы знали от Гулия, т.к. он был арестован немного позже. Помню, что громко об этом не говорилось, только шепотом.
Оказывается, Раф был жив до начала войны и сидел в тюрьме в Москве, когда я уже была студенткой. Раф был красив. Он был похож на свою красавицу мать, но было в нем и что-то отцовское.
Братьев Лакобы я не знала, только слышала о них не раз. Но дочь Михаила Лакобы (ошибка; дочь Василия Лакоба. – Админ.) – Зину – я хорошо знала: мы с ней были соперницами на легкоатлетических городских и областных соревнованиях. Хорошая девочка была. Она тоже потом жила и работала в Сухуме, передавала мне через кого-то привет. По-моему, и сейчас она там...
Е.М. Кораблева-Гурджи.
«Сухумский вестник». 1990 г., июль, № 6.
…Как сейчас перед глазами картина: в Келасури привезли умершего Н. Лакобу. Я была среди тех, кто толпой, растянувшейся на все 9 км, шли встретить поезд, на котором привезли его. Подошел поезд, на открытой платформе гроб и тысячи людей вокруг.
Народ любил Лакобу. Любила его и я. И не так просто, потому что все любили, а потому, что все знали его, даже я знала его, часто видела и слушала его. А когда я повязывала ему красный галстук почетного пионера (это было в здании драмтеатра на каком-то праздничном заседании), я увидела его глаза близко-близко, и теплота их ласкала так хорошо и передалась мне, что я запомнила это на годы.
Читаю, что похороны были зимой, но я хорошо помню, что день похорон был солнечным, народу было мною, и весь путь от драмтеатра, где он лежал, до Ботанического сада сплошь был устлан цветами... Перезахоронение было на другом кладбище... Хорошо запомнилось и то, что тело Лакобы было затем надежно спрятано родственниками и что его не могут найти.
Конечно, Л. Берия не могло не волновать, что факт отравления может всплыть. О том, что он был отравлен, мы знали, т. к. не захотевший подписать предложенное заключение врач Семерджиев был сразу арестован, а его дочь переведена из Абхазской школы в мою и в мой класс. Проучилась Ляля Семерджиева несколько дней и вдруг исчезла; говорили, что родственники увезли ее куда-то... Много лет спустя мне передавали, что она работает в Сухуме.
Когда шел суд (открытый, в здании театра), его транслировали по радио. Растерянная и потрясенная, до нитки промокшая, стояла я у большого репродуктора и плакала. Почему я плакала? В моем еще детском сердце никак не вмещалось понятие «враг народа» в отношении Нестора Аполлоновича. Я же помню его глаза, они не могли обмануть меня. Вместе с его братьями судили и Вл. Ладарию, которого я тоже хорошо знала. Он, как и Л. Берия, кончал мою школу.
Народ знал, что Берия встал между Лакобой и Сталиным, ибо было известно о дружбе этих двух людей. Тогда, вероятно, никто из народа не знал цену этой дружбы. О Сталине, конечно, я тогда ничего плохого не слышала. Но думали, что Берия ревновал Лакобу к Сталину.
Родилась я в 1922 году, жила на улице Лакоба. Тогда его именем называлась наша улица, и только, видимо, после реабилитации его именем назвали улицу, на которой он жил.
Приезды И.В. Сталина тоже в народе были известны. Знали даже и о той провокации с обстрелом катера. Никто не верил, что на Сталина покушались. Если кто и поверил, то это сам Сталин.
Знали и то место, где жил Сталин в Сухуме, и дом тот так и стали называть –домом Сталина. Сейчас я не могу точно вспомнить, откуда у меня были все эти сведения. Возможно, информация шла от Анисима Спиридоновича Гулия, старого большевика, бывшего подпольщика, сын которого Владимир был начальником особого отдела, тогда же репрессирован и осужден.
Дружба моих родителей с Гулия продолжалась и потом, после ареста их сына. Помню, кто-то спрашивал отца, не боится ли он общаться с ними, а он отвечал, что ему терять нечего. Действительно, от стариков Гулия отвернулись все, и только к нам они время от времени приходили. И я помню, мама обязательно что-то особенное в этот день. готовила: чебуреки, пельмени или пекла кубэтэ.
Я и сестренка иногда ходили к ним (жили они в Ботаническом саду в отдельном домике, который после их смерти был снесен) и убирали у стариков их двухкомнатную квартиру. Жили старики надеждой, что их сын жив. Эту надежду подавала бумага, присылаемая не раз на неоднократный их запрос за подписью Ворошилова. Старик скоро умер, а мать долго еще жила, работая в билетной кассе у входа в Ботанический сад.
В последний свой приезд вместе с подругой гречанкой в поисках могилы ее родственницы на Михайловском кладбище я вдруг увидела могилу этих стариков Гулия. Положила цветы, и, конечно, навещала бы ее, но больше в Сухуме быть мне не пришлось.
Я отвлеклась. Народ любил не только Нестора, все любили и его жену. Теперь, узнав все подробности, я понимаю, что любили ее не зря.
Их сын Раф (так все его называли) был того же возраста, что и я. Когда его арестовали, их класс (русское отделение Абхазской школы) был расформирован. Тогда-то и попала к нам Ляля Семерджиева. Не знаю как, но было известно о том, что Берия добивается каких-то бумаг, порочащих Нестора. Знали мы, что жена Нестора хорошо их спрятала. Знали и о допросах сына при матери, даже физическом воздействии на сына и мать. Но бумаги не были найдены. Сейчас я узнала, куда их спрятала жена Лакобы.
Да, видимо, все это мы знали от Гулия, т.к. он был арестован немного позже. Помню, что громко об этом не говорилось, только шепотом.
Оказывается, Раф был жив до начала войны и сидел в тюрьме в Москве, когда я уже была студенткой. Раф был красив. Он был похож на свою красавицу мать, но было в нем и что-то отцовское.
Братьев Лакобы я не знала, только слышала о них не раз. Но дочь Михаила Лакобы (ошибка; дочь Василия Лакоба. – Админ.) – Зину – я хорошо знала: мы с ней были соперницами на легкоатлетических городских и областных соревнованиях. Хорошая девочка была. Она тоже потом жила и работала в Сухуме, передавала мне через кого-то привет. По-моему, и сейчас она там...
Е.М. Кораблева-Гурджи.
«Сухумский вестник». 1990 г., июль, № 6.
НОВОСТИ